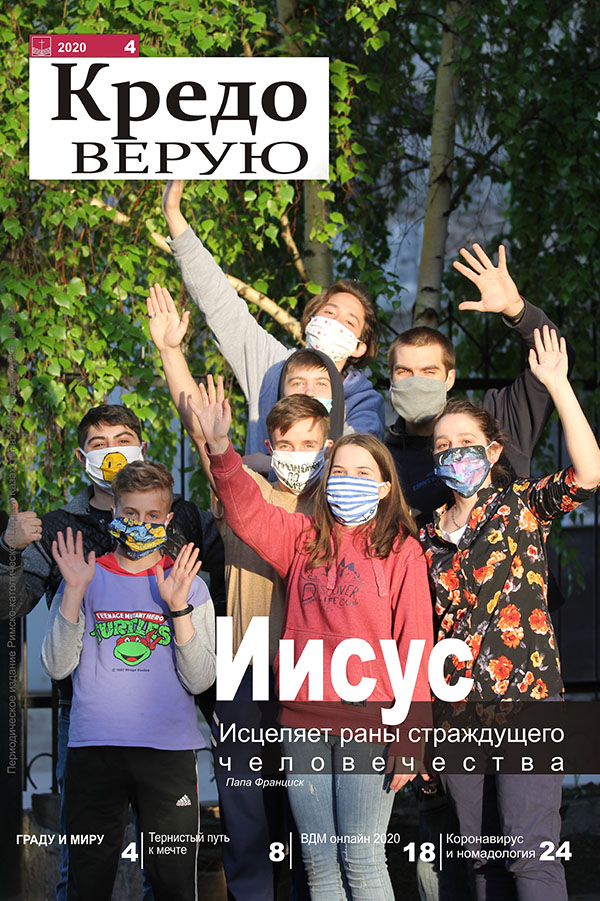
Гертруда Детцель
- Подробности
- Категория: Газета "Кредо" №4(296)'20
- Опубликовано 13.05.2020 14:51
- Просмотров: 766
Биография Гертруды
Детцель
Плоть женщины,
Дух мужчины
Часть 2
С началом войны Гертруда Детцель как подходящая по возрасту и бездетная женщина была отправлена в южно-казахстанский город Пахта Арал, где вместе со своими землячками собирала хлопок. В 1943 г. Гертруду и её подруг – Клару Ромме, Елену Мерц, Регину и Марию Мауль, Эмилию Шмидт – направили в трудармию в Гурьевскую (ныне Атыраускую) область, где вместе с другими женщинами-немками они работали на нефтяном промысле Байчунас. Работой было рытьё траншей для укладки труб нефтепровода. Женщин поселили в бараках, выдали рабочие робы и ботинки с деревянными подметками, кайло и лопаты. По дороге на работу и с работы шли все вместе, и подбитые деревом ботинки стучали так, что казалось, вспоминала Е. Мерц, «будто по мостовой идёт табун лошадей. Мы действительно были «рабочими лошадьми», в тёмной, грязной одежде и с лопатами на
плечах» .
Опуститься и потерять своё человеческое достоинство в таких условиях не составляло никакого труда: изматывающий, непосильный даже для многих мужчин каторжный труд, отсутствие элементарных удобств и горькое осознание того, что, пока Советский Союз воюет с Германией, немцы, как внутренние враги и потенциальные предатели, обречены на бесправное и унизительное существование, создавали все условия для отчаяния и безысходности. Вместе с Псалмопевцем практически все советские немцы в то время могли бы произнести: «Отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас. Ты сделал нас притчею между народами, покиванием головы между иноплеменниками»… (Пс 44, 14-15).
При условии сохранения своей жизни люди, в подобной ситуации, могли либо примириться с угнетением, обессмыслив тем самым ценность своего человеческого «я» как образа и подобия Божьего, либо, сохраняя его, решиться на сопротивление. Согласно социальному учению Католической Церкви, право на сопротивление основывается на естественном праве, и потому принадлежит человеку неотъемлемо, но Церковь во все времена выступала твёрдым сторонником неприменения насилия по отношению к политической власти, считая предпочтительным путь пассивного сопротивления, «более соответствующий нравственным принципам и обещающий не меньше успеха» .
Для многих немцев, находившихся в трудармии, главной формой такого сопротивления стала непрерывная молитва. «В бараках с одной стороны, – вспоминала Е. Мерц, – жили католики, а с другой – лютеране. Гертруда говорила нам утром и вечером: «Девочки, идём молиться». Лютеране тоже начинали молиться вместе с нами» .
Положение многих женщин в трудармии усугубляли переживания о том, что у них дома остались брошенными на произвол судьбы дети, о которых некому было заботиться. Гертруда всё время утешала подавленных этими мыслями матерей: «Бог поможет. Бог возложил на нас этот крест и поможет нам его нести». Когда, наконец, «сверху» дали разрешение привезти детей, Гертруда стала их воспитательницей, учила их молиться и петь. Те, кому довелось родиться в трудармии, нуждались в крещении, кому пришлось умереть, – в отпевании. Гертруда совершала и то, и другое. В женском бараке под её руководством был воздвигнут алтарь, и верующие соблюдали все религиозные праздники и обряды. «Все любили и почитали Гертруду», писала Е. Мерц. «Она была для нас примером, всегда терпелива и радостна. Работа была очень тяжёлая, и, если бы Бог не давал нам силы, мы бы все погибли. Умерла только одна женщина. Остальные все выжили».
По воскресеньям женщины собирались в бараке на общую молитву, и слухи об этом, разумеется, дошли до лагерного начальства. Однажды, как раз во время воскресной молитвы, в бараке появился комендант. Не ожидая для себя ничего хорошего, все женщины испугались, и только одна Гертруда спокойным и ровным голосом продолжала читать молитву. Закончив молиться и поднявшись с колен, она подошла к коменданту: «Прошу прощения, мы – католики; когда молимся, мы разговариваем с Богом и потому не можем прерываться». На эти слова комендант, казах по национальности, лишь понимающе кивнул и похлопал Гертруду по плечу – у мусульман казахов тревожить человека во время молитвы всегда считалось признаком невежества и невоспитанности. «Мне всё ясно, – ответил он. – Ваша вера правильная. Если бы вы перестали молиться и разбежались, я бы вам не поверил. Молитесь», – и с этими словами он вышел из барака.
Тем не менее, доносы на Гертруду продолжали регулярно поступать в комендатуру, и 7 сентября 1949 г. она была арестована и приговорена Гурьевским областным судом к 10 годам исправительно-трудовых работ по «универсальной» уголовной статье 58-10 УК РСФСР (контрреволюционная пропаганда и агитация).
Но молиться можно всегда и везде, говорил о. Владислав Буковинский, и душа отовсюду найдёт путь к Богу. Племянница Гертруды, Нелля Иосифовна Силивирова, вспоминала, как тётя рассказывала ей о времени отбывания своего тюремного срока: «Тётя Гертруда жила в казарме вместе с воровками и проститутками. Все они приходили с работы мокрые, надо было просушить одежду, потому что запасной не было, а завтра – снова на работу.
Тем не менее, до того, как лечь спать, Гертруда зажигала свечку, забиралась под нары, читала там Евангелие и молилась. Под тем предлогом, что она вечно мешает им спать, обозленные соседки писали на неё доносы, и поэтому часто среди ночи Гертруду будил конвой: «Детцель, к начальнику»!
Накинув на себя ещё не просохшую одежду, Гертруда беспрекословно следовала за конвойными, но, едва войдя в кабинет начальника тюрьмы, с порога первой начинала разговор: «Господин начальник, сегодня – такой-то праздник» (в зависимости от времени: Вознесение Господне, Сошествие Святого Духа, Успение Пресвятой Богородицы и т.д.). Затем Гертруда вкратце излагала соответствующее евангельское событие и в завершение прибавляла: «Это время благодати, а Вы в такой праздник из-за какой-то чепухи тревожите женщину в ночной час». Не в состоянии что-либо возразить, начальник, зажмурив глаза, начинал отмахиваться от неё и взывать к охранникам: «Уведите, уведите её обратно, она меня оворожила, я уже сам начинаю верить!».
«Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё»… (Мф 13, 33) – говорит Евангелие от Матфея.
Пока Гертруда отбывала свой лагерный срок, вокруг неё образовалась новая молитвенная группа, а начальник тюрьмы, пересматривая во время амнистии 1954 г. дело Г. Детцель, сразу принял решение ходатайствовать о её досрочном освобождении: «Эту немку нужно побыстрее выпускать, а то, глядя на неё, у меня тут скоро все будут молиться». На суде по прочтении «состава преступления» Гертруды: «учила людей, крестила, хоронила, навещала больных», – судьи, посовещавшись между собой, пришли к единому мнению: «Перед нами святая женщина». После зачитанного ей постановления об освобождении Гертруда вначале поблагодарила Бога («Ибо всё хорошее – от Бога»), затем – власть и всех присутствующих. В предоставленном ей слове она сказала: «Я – католичка. Наша вера требует от нас, чтобы все свои знания мы передавали ближнему и помогали ему; ибо, что делаешь для ближнего, – делаешь для Бога». Прощаясь с Гертрудой, все члены суда поднялись и, пожелав счастливого пути, пожали ей руку.
Аида Забировна Махмутова
(продолжение)
.













